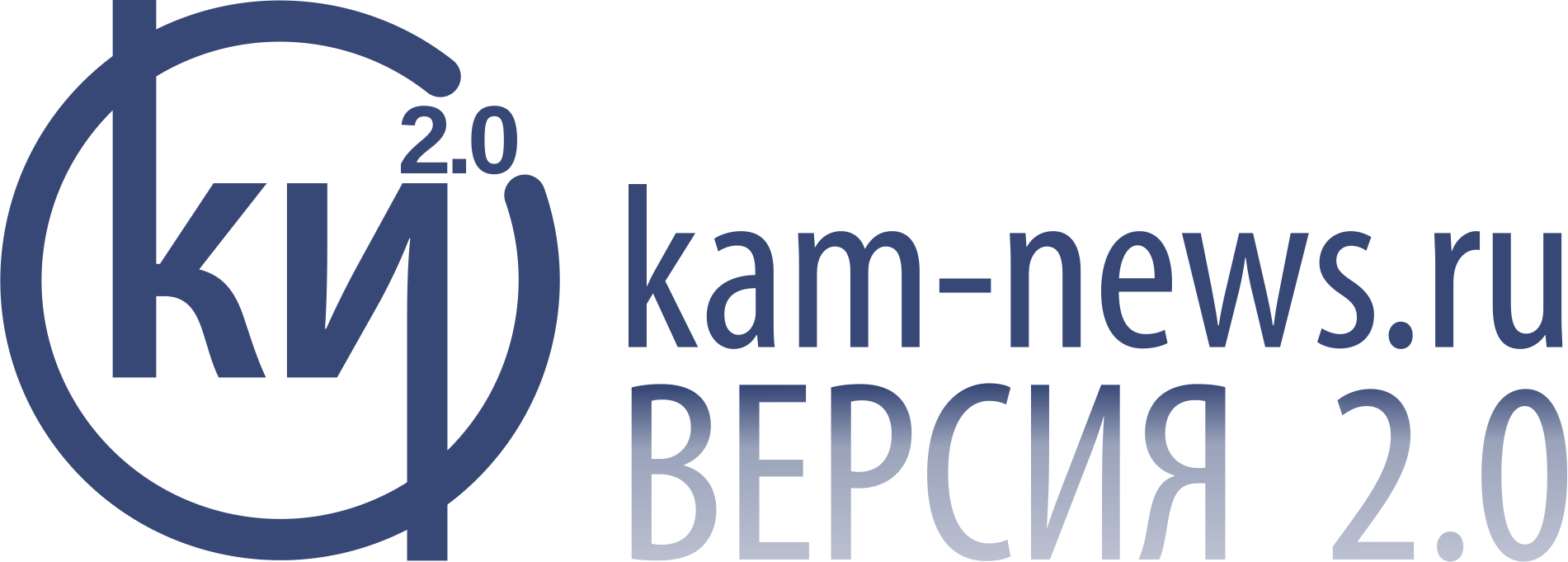12 марта 1896 года некто Вайнерт, иудей и выходец из Польши, в маленьком домишке в Камышлове на улице Торговой, купленном за бесценок у местных, открывает мясную лавку, а в подвале — колбасный заводик. Почти одновременно здесь же, рядом, новоиспеченный купец начинает строительство каменного дома. И через шесть лет трактир, расположенный на первом этаже особняка Бронислава Францевича, распахнет свои двери…
12 марта 1896 года некто Вайнерт, иудей и выходец из Польши, в маленьком домишке в Камышлове на улице Торговой, купленном за бесценок у местных, открывает мясную лавку, а в подвале — колбасный заводик. Почти одновременно здесь же, рядом, новоиспеченный купец начинает строительство каменного дома. И через шесть лет трактир, расположенный на первом этаже особняка Бронислава Францевича, распахнет свои двери…
В дверь стучали — или ломились? Наверное, все же ломились — раз она, бедная, так скрипела. А тем временем внизу, в трактирном зале, отчетливо слышалось шарканье подошв и тихое матюганье — по всей видимости, это старший наряда отдавал приказания солдатам, что, столпившись у входа, продолжали насиловать дверь.
Он нехотя встал с кушетки — было тяжело и больно. Тяжело, потому что, черт возьми, действительно тяжело оставаться на шестом десятке одному — в этой сорвавшейся с цепи стае псов. Больно, потому что тяжесть, еще вчера камнем давившая лишь грудь, сегодня мяла, ломала его всего. А еще обида — обида, Бог весть на кого, душила его: дурак, старый дурак, ну почему, почему он не поехал вслед за Софушкой — ведь знал, знал, что все эти манифесты, лозунги и воззвания добром не закончатся. Пожалуйста, вот теперь надо идти и открывать дверь этим варварам лишь потому, что им очень хочется кушать. Кушать? Ха-ха. Скорее — жрать.
Он резко дернул дверь на себя — солдат, стоявший с противоположной ее стороны, не ожидал — повалился на него. Отпрянув, он дал тому свободно упасть, и только после, убедившись в полном падении бедолаги, спросил у второго, что был постарше и стоял на пороге:
— Офицер здесь? Ведите…
Поручик сидел посреди зала — за единственным уцелевшим столом. Интересно, сколько ему лет — 20? 25? Впрочем, в теперешнее время и не угадать — на дворе война. Офицер поднял глаза — красные то ли от бессонницы, то ли от грязи, кивнул на табурет — рядом, изобразил подобие улыбки. Гляди-ка, хочет быть воспитанным? Пожалуйста — мы не против.
— Пан жид (1) разумеет по-чешски? — поручик говорил медленно, осторожно — словно не слова подбирал, а по болоту продвигался, при каждом шаге опасаясь уйти в никуда. Ну и дела! Это ж надо, откуда его занесло?! Почему-то вдруг захотелось заохать — чисто по-русски, кивая головой и разводя руками в стороны. Но раз уж ты еврей, да еще пан, то надобно соответствовать — и он сдержался, лишь мотнув головой утвердительно. И уселся удобней на тот самый табурет, что в его же доме ему предложил его же гость. Или уже хозяин?
С высоты прожитых им 53-х лет он может твердо сказать, что все это время Всевышний был благосклонен к нему — хранил, оберегал, наставлял на путь истинный, отводя в сторону карающий перст судьбы. А он ведь давно не безгрешен, даже наоборот.
Броня рос болезненным мальчиком — нет, не то чтоб совсем уж дохлым, но и хвастаться было нечем — постоянные простуда, кашель, рвота. В такие дни мама вздыхала, плакала, а ребе (2), заглядывая в лавку к отцу, говорил, что сие есть наказание божье, ведь Броня — полукровка. Интересная мысль — а как же тогда быть с остальными его тремя братьями и сестрой, отнюдь не жалующимися на здоровье? Вероятно, тут не обошлось без наговора, или все гораздо проще — и сестра, и братья были похожи на мать, а он… А он — нет.
Мама у Брони была красивой женщиной — как в бокале с хорошим вином ты улавливаешь множество ароматов, в итоге составляющих чудный букет, так и в ней играла кровь мадьяр, чехов, цыган и даже пруссаков. Зато уж папенька был чистой воды жид — за что из всех пятерых его отпрысков отдуваться приходилось исключительно Броне: и хром, и кучеряв без меры, и картавит в придачу. Правда, отец разгонял обидчиков, а ему гордо заявлял, что они, Франтишек и Бронислав Вайнерты, — дети великого народа, потомки мудрого Моисея.
Мудрость отца он оценил по достоинству позже, в свои неполные 19 лет, когда старик, умирающий от непонятной в здешних местах заразы, оставил первенца у всех дел. Действительно, сын великого и умного народа, Франц Сигизмундович умудрился, вопреки Торе (3), жениться не на себе подобной — иудейке, а на пусть бедной, но родовитой шляхтичке, после чего уже без особого труда открывал двери парадных подъездов — и не только в родном Быдгоще (4). Впрочем, умным оказался и он, Бронислав Францевич, потому что уже через два года семейный капитал Вайнертов вырос в полтора раза. Но тут случилось страшное — в маме проснулась гордыня, а в братьях — алчность. Он не стал долго думать — взял столько, сколько можно было унести с собой за раз, и ушел.
Россия встретила его не только морозами и бескрайними просторами, но и свободой, дух которой витал повсюду. Он очень хотел учиться, он чувствовал, что его мозг способен усвоить многое, хотя в студенты записался поздно — ему было уже 23, но… в двадцать шесть его отчислили — хорошо, что без поражения в правах. Винить было некого — он сам поставил крест на своей учености. А то, что Белокаменная показала ему фигу — поделом, нечего было с жидовской мордой прокламации разносить. Лавка и трактир — вот его удел!
…Поручик закончил читать свой список — выходило немало: десятка два пудов муки, пудов двенадцать сахара, мешка два вяленой рыбы, ведер сорок бульбы, бочонка два вина, спички, сало, сухари. Он стоял, слушал — а что оставалось делать бедному пану еврею?
«Вам не можно дать нам плохо…» Говори, говори… Подобное он уже слышал, когда тремя месяцами раньше к нему приходили «товарищи», просили помочь харчем — а лишь стоило им возразить, мигом натыкали в бока и пустили кровь.
Били его долго, в удовольствие, а когда кончили — выгребли из дома все, что попало под руку, даже Софушкины старые игрушки — и те забрали с собой. «На растопку» — видя его оторопь, прозубоскалил старший. Он перенес тот погром, встал на ноги сам и начал торговать снова. Возможно, перенесет и сегодняшний, но что будет, когда уйдут и «господа», а то, что они уйдут, не вызывало сомнения. Он крикнул парнишку-полового, последнего оставшегося у него работника, кинул ключи от амбара — пусть берут, пусть берут все.
…Был 1901 год. Сентябрь. Его тридцать шестой день рождения — душа просила праздника. Может, наведаться к соседям? Старый пан Иосиф, в молодость свою высланный с родины за вольные мысли, а после прижившийся здесь, рядом, уже не раз звал к себе — старик тоже был из иудеев.
Хозяин встретил его с радостью, накормил, напоил. Потом они много говорили — о разном. И даже об его родном Быдгоще! А вечером, когда сели пить чай, приехала племянница пана Иосифа Елена. И он, не видевший ее доселе, потерял дар речи. Красота ее была дикой, можно сказать, даже распутной — от цыган, от табора. Он не ошибся, Елена была страстной до безумия, словно предвидела свою скорую смерть, а потому спешила насладиться любовью. Он положил к ее ногам все, что имел — дом, дело, репутацию, капитал. И она отплатила ему сполна — дочерью, которую по взаимному соглашению супруги назвали Софушкой.
…Хлопнула дверь. Парнишка-половой, вытирая ушанкой пот со лба, протянул ему ключи.
— Ушли?
Тот не ответил, лишь мотнул головой — сверху вниз.
— Что осталось?
Парнишка вновь мотнул головой — но уже из стороны в сторону. Значит, выгребли все.
Софушка! Как она там без него?
Да, сентиментальность — черта, не присущая их иудейскому племени. И как радовался бы сегодня ребе: мол, говорил вам, что Броня ваш — полукровка! Пусть так — пусть смеется ребе, если, конечно, жив, но не думать о дочери он не мог, потому что в этом перевернувшемся с ног на голову мире единственной родной душой для него оставалась только она, Софушка!
Дочка родилась чудо как хороша — в меру пухленькая, в меру горластенькая. Повитуха, принимавшая роды, так и сказала — прелесть, а не ребенок, однако эту прелесть надобно было оберегать от дурного глаза. Но не уберегли, не уследили — девочка занемогла. Хворь выходила из нее долго, тяжело, но зато после в дверном косяке, на уровне детской головки, он сразу же выдолбил дупло, спрятав в него дорогую прядь волос. Софушка быстро переросла ту зарубку — и они забыли про недуги и сглаз! И тогда беда пришла с другой стороны.
Елена любила прогулки в лес — за реку, и однажды попала под дождь, а утром следующего дня она слегла. Через неделю ее не стало. Но смерть жены он воспринял не иначе как напоминание свыше — Господа ведь не проведешь! Пришло его время собирать камни — за брошенную маму, состарившуюся разом после отъезда сына, за дом, растащенный братьями по закоулкам. Вместе с тем, он и гордился собой — в блуд и разгул не ушел.
А через десять лет после смерти Елены он вдруг заметил, что маленького неоперившегося утенка уже нет — рядом была молодая красивая птица! Заметил и обомлел — до чего же София стала похожа на мать! Тот же разрез глаз, те же брови, смуглость кожи и чувственность губ. И как та, из всех месяцев года дочь любила сентябрь — время желтых листьев. И как та, была и послушна, и своенравна одновременно.
…Вспоминать уже не было сил.
Он медленно поднялся по лестнице, держась за стену. Здесь, на этих ступенях, он всегда ругал дочь, когда та, вопреки всем его запретам, съезжала вниз по перилам — прямо к посетителям в ноги, и смех ее звенел колокольчиком долго-долго. Надо же, как это Всевышний надоумил его отправить Софушку отсюда? Пусть далеко, не за одну тысячу верст, но прочь, прочь отсюда! Впрочем, он и сам не дурак — еще тогда, в феврале семнадцатого, уразумел, что эти манифесты, лозунги и воззвания добром не закончатся. Так и вышло — что он имеет сегодня? Сейчас? Кукиш — вот и весь его капитал.
«3 марта 1920 года.
Камышловская уездно-городская милиция.
Товарищу Валенте Людвигу Антоновичу. Настоящим ставлю вас в известность, что гражданин Вайнерт Бронислав Францевич, имевший собственный дом по Торговой улице — шестой с краю от Приходской, по правую руку, и живший в нем, отсутствует с сентября 1918 года по показанию людей, его знавших — старухи-экономки Ульяны Федоровны Юдиной и рабочего трактира Ивана Орлова, семнадцати лет. Ими также заявлено, что означенный гражданин народную власть не ругал, но и не поддерживал. Буржуазной агитации не вел, содействия войскам мировой буржуазии (белым чехословакам и прочей гадине) не оказывал.
Петр Прохоров,
милиционер 4-го участка».
Олег ДЕГТЯРЕВ.
P.S. Автор благодарит за помощь в подготовке публикации Алексея Алеева (Камышлов), Семена Роцанского (Быдгощ), Еву Цихову (Карловы Вары).
(1) Слово «жид» в русском языке всегда считалось оскорбительным (заимствовано из латинского «judaeus», что означает «иудей»), однако является нормой в других славянских языках, например, польском, чешском.
(2) Ребе — священнослужитель в иудаизме.
(3) Тора — свод иудейских законов, аналог Библии, который не приветствует смешанные браки.
(4) Быдгощ — город на севере Польши, основанный в 1346 году.
© Редакция газеты «Камышловские известия»